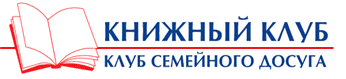Глава XIV
Праздник
Как только Жоржетта выздоровела, мадам отослала ее в деревню. Мне стало грустно — я любила эту девочку, и разлука с ней усугубила мое одиночество. Но мне не следовало бы жаловаться. В доме, где я жила, кипела жизнь, и я могла бы завести приятельниц, если бы не предпочитала уединение. Все учительницы по очереди делали попытки завязать со мной самые близкие отношения, и я не противилась этому. Одна из них оказалась достойной женщиной, но ограниченной, нечуткой и себялюбивой. Вторая, парижанка, при благородной внешности, в душе была растленной особой без убеждений, без правил, без привязанностей; под внешней благопристойностью она обнаружила низкую душу. Она отличалась поразительной страстью к подаркам, и в этом отношении третья учительница, вообще-то особа бесхарактерная и незаметная, была весьма на нее похожа, с той лишь разницей, что ей была свойственна алчность. Ею владела страсть к деньгам как таковым. При виде золотой монеты ее зеленые глаза загорались — такое редко приходится наблюдать. Однажды она, в знак глубокого ко мне расположения, повела меня наверх и, открыв потайную дверцу, показала свой клад — кучу шероховатых больших пятифранковых монет общей суммой примерно в пятнадцать гиней. К этому кладу она относилась с такой же любовью, с какой птица относится к снесенным ею яйцам. Это были ее сбережения. Она часто говорила мне о них с таким безумным и неослабеваемым обожанием, какое странно наблюдать в человеке, не достигшем еще двадцатипятилетнего возраста.
Парижанка же, напротив, была расточительной (во всяком случае, по склонностям, а на деле — не знаю) и злобной. Змеиная головка ее злобы лишь однажды мелькнула предо мною, и то на мгновение. Я успела уловить, что это весьма редкая гадина, и необычность этого создания разожгла мое любопытство. Если бы она выползла смело, я, возможно, сохранила бы философское спокойствие, не отступила бы и хладнокровно рассмотрела всю извивающуюся тварь — от раздвоенного языка до покрытого чешуей кончика хвоста, — но она лишь зашуршала в листках скверного бульварного романа и, натолкнувшись на опрометчивое и неразумное изъявление гнева, юркнула меж страниц и скрылась. С тех пор парижанка меня возненавидела.
Она постоянно была в долгах, так как еще до получения жалованья приобретала на всю сумму не только туалеты, но и духи, всякие снадобья для лица и тела и разные сласти. Как равнодушна и бессердечна была эта женщина ко всему, кроме наслаждений! Она словно стоит перед моими глазами: худощавая, узкое бледное лицо с правильными чертами, прекрасные зубы, тонкие губы, крупный, выступающий вперед подбородок, большие, но совершенно ледяные глаза, выражавшие одновременно мольбу и неблагодарность. Она смертельно ненавидела всякую работу и обожала нелепо, бездушно, бессмысленно расточать время, что в ее понимании и было истинным наслаждением.
Мадам Бек отлично понимала ее характер. Как-то она заговорила со мной о ней, и в ее словах я ощутила непонятное смешение проницательности, равнодушия и неприязни. Я спросила, почему она не увольняет эту особу. Она ответила откровенно: «Потому что мне так выгоднее», — и отметила уже известное мне обстоятельство — мадемуазель Сен-Пьер обладала исключительной способностью держать в повиновении обычно непокорных школьниц. От нее исходила парализующая сила — спокойно, без шума и принуждения она усмиряла их, как безветренный мороз сковывает бурный поток. В приобщении детей к наукам от нее было мало проку, но зато никто не мог превзойти ее в умении держать учениц в строгости и добиваться выполнения всех правил приличия. «Je sais bien qu'elle n'a pas de principes, ni, peut-etre, de moeurs , — честно призналась как-то мадам, но с философским видом присовокупила: — Son maintien en classe est toujours convenable et rempli meme d'une certaine dignite; c'est tout ce qu'il faut. Ni les eleves ni les parents ne regardent plus loin; ni, par consequent, moi non plus».
Пансион наш представлял собой странный, вечно взбудораженный и шумный мирок. Прилагались огромные усилия, чтобы скрыть цепи под гирляндами цветов, тонкий аромат католицизма ощущался во сем, что происходило в школе: снисходительное отношение к так называемым земным радостям уравновешивалось строгими запретами в духовной сфере. Юный разум формировался под давлением законов рабства, но, дабы дети не слишком много размышляли на эту тему, использовался любой предлог для игр и телесных упражнений. В нашей школе, как и повсюду в Лабаскуре, церковь стремилась воспитать детей, сильных телом, но слабых духом, — полными, румяными, здоровыми, веселыми, невежественными, бездумными, нелюбознательными. «Ешь, пей, живи! — внушает церковь. — Заботься о своем теле, а о душе позабочусь я. Я исцеляю ее и руковожу ею. Я обеспечиваю ей спасение». Эту сделку каждый истинный католик считает для себя выгодной. А ведь подобные же условия предлагает и Люцифер: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне и я, кому хочу, даю ее, и если ты поклонишься мне, то все будет твое».
В это время года, то есть в разгар лета, в доме мадам Бек начиналось такое веселье, какое только можно допустить в учебном заведении. Целыми днями широкие двери и двустворчатые окна были открыты настежь, солнечный свет, казалось, навечно растворился в воздухе, облака уплыли далеко за море и, наверное, отдыхали где-нибудь подле островов, таких, например, как Англия (милая страна туманов!), навсегда покинув засушливый континент. Мы проводили в саду больше времени, чем в доме, — вели занятия и ели в «grand berceau» . Кроме того, уже чувствовалась подготовка к празднику, что давало право на почти полную свободу. До осенних каникул оставалось всего два месяца, но еще раньше предстояло празднование великого дня — именин мадам, которые отмечались очень торжественно.
Подготовкой к этому дню руководила главным образом мадемуазель Сен-Пьер. Мадам же держалась от всего в стороне, якобы не ведая, что готовится в ее честь. Ей-де неизвестно, она и не подозревает, что ежегодно со всей школы по подписке собирают деньги на достойный ее подарок.
Тонкий и тактичный читатель предпочтет, вероятно, чтобы в повествовании было опущено описание краткого тайного совещания по упомянутому вопросу, происходившего в комнате мадам.
— Что вы хотите получить в этом году? — спросила приближенная к мадам парижанка.
— Ах, совершенно все равно! Не стоит об этом говорить! Пусть у бедных детей останутся их франки. — И мадам приняла кроткий и скромный вид.
Тут Сен-Пьер обычно выдвигала вперед подбородок; она знала мадам как свои пять пальцев и всегда называла мину кротости, доброты у нее на лице гримасой.
— Vite! — изрекла она ледяным тоном. — Назовите нужный предмет. Что вы хотите — драгоценности, фарфор, гребешки-ленты или серебро?
— Eh bien! Deux ou trois cuillers, et autant de four-chettes en argent .
В результате переговоров появлялась нарядная коробка со столовым серебром стоимостью в 300 франков.
Программа праздничной церемонии состояла из вручения подарка, легкой закуски в саду, спектакля (в исполнении учениц и учителей), танцев и ужина. Помнится, все это производило потрясающее впечатление. Зели Сен-Пьер понимала толк в таких вещах и искусно устраивала подобные развлечения.
Главным пунктом программы был спектакль, к которому начинали готовиться за целый месяц. Умения и осторожности требовал прежде всего отбор актеров; затем приступали к урокам декламации, балетных движений, после чего следовали бесконечные утомительные репетиции. Нетрудно догадаться, что для этого Сен-Пьер уже не годилась, так как возникала необходимость в знаниях и способностях иного рода. Ими обладал преподаватель литературы — мосье Поль Эманюель. Мне никогда не приходилось бывать на его занятиях по актерскому мастерству, но я нередко видела, как он проходит по квадратному вестибюлю, соединяющему жилое помещение с учебным, а в теплые вечера мне доводилось слышать через открытые двери, как он ведет уроки. О нем без конца рассказывали всякие истории, в том числе и смешные. Особенно любила упоминать его изречения и рассказывать о его поступках наша старая знакомая, мисс Джиневра Фэншо. Ей была поручена важная роль в этом спектакле. В то время она удостаивала меня чести проводить значительную часть своего свободного времени в моем обществе. Она считала мосье Поля страшным уродом и изображала ужасный испуг, чуть ли не истерический припадок, когда слышала его голос или шаги. Он и вправду был неказистым — смуглым и низкорослым, язвительным и суровым. Когда я смотрела на его коротко подстриженные черные волосы, высокий бледный лоб, впалые щеки, широкие раздувающиеся ноздри, встречала его пронизывающий взгляд, даже мне он казался малоприятной особой. К тому же он был очень раздражительным — до нас доносились страстные тирады, которые он произносил перед неуклюжими новобранцами, находившимися под его командованием. Иногда он обрушивал на этих неопытных актрис-любительниц яростный гнев за фальшивую игру, холодные чувства и невнятную речь. «Слушайте!» — восклицал он, и по всей округе раздавался его трубный глас. Когда же слышался писк какой-нибудь Джиневры, Матильды или Бланш, пытающейся подражать его интонациям, всякому становилось ясно, почему это жалобное эхо вырывало у него из груди либо глухой стон, полный презрения, либо злобное шипение.
Я сама слышала, как он кричал громовым голосом: «Vous n'etes donc que des poupees. Vous n'avez pas de passions — vous autres. Vous ne sentez donc rien! Votre chair est de neige, votre sang de glace! Moi, je veux que tout cela s'allume, qu'il ait une vie, une ame!»
Напрасные желания! Как только мосье Поль окончательно убедился в их тщетности, он тотчас же перестал работать над высокой трагедией, разорвал текст ее в клочья и заменил его пустячной комедией. Пансионерки отнеслись к ней более дружелюбно, и ему вскоре удалось вбить это произведение в их маленькие бездумные головки.
Мадемуазель Сен-Пьер всегда присутствовала на уроках мосье Эманюеля, и мне говорили, что ее учтивые манеры, притворный интерес, такт и любезность производили на него весьма благоприятное впечатление. Она и в самом деле, когда ей было нужно, умела понравиться, кому хотела, но обычно это длилось недолго — через какой-нибудь час приязнь к ней рассеивалась как дым.
В канун именин мадам царила не менее праздничная атмосфера, чем в самый день торжества. Три классные комнаты долго мыли, чистили, приводили в порядок и украшали. Дом был охвачен веселой суетой; ищущий покоя не мог найти тихого уголка ни на верхнем, ни на нижнем этаже; мне пришлось укрыться в саду. Весь день я бродила или посиживала там одна, грелась на солнце, пряталась в тени деревьев и беседовала сама с собой. Помню, за весь день я едва ли обменялась с кем-нибудь и двумя фразами, но от одиночества я не страдала, тишина была мне даже приятна. Я ощущала себя сторонним наблюдателем, мне было вполне достаточно пройти раз или два по комнатам, посмотреть, какие происходят перемены, как устраивают фойе и театральную уборную, воздвигают маленькую сцену с декорациями, как мосье Поль Эманюель вкупе с мадемуазель Сен-Пьер руководит всеми этими приготовлениями и как стайка горящих нетерпением учениц, среди них и Джиневра Фэншо, весело выполняют его распоряжения.
Великий день наступил. Небо было безоблачно, солнце палило уже с самого утра. Все двери и окна открыли настежь, отчего возникало приятное ощущение летнего приволья, а непринужденный распорядок дня создавал чувство полной свободы. Учительницы и пансионерки спустились к завтраку в пеньюарах и с папильотками в волосах, с наслаждением предвкушая, как наденут вечерние туалеты. Они напоминали олдерменов{141}, с радостью постящихся в ожидании предстоящего пира, и явно наслаждались тем, что позволили себе в это утро роскошь появиться в столь неряшливом виде. Около девяти часов утра прибыла важная персона — парикмахер. Как это ни кощунственно звучит, но он разместился в молельне, и там, перед benitier , свечой и распятием, начал торжественно демонстрировать свое искусство. Всех пансионерок по очереди приглашали воспользоваться его услугами, и каждая выходила от него с гладкой, как раковина, прической, разделенной безукоризненным белым пробором и увенчанной уложенными по-гречески косами, блестевшими как лакированные. Я тоже побывала у него и с трудом поверила тому, что сказало мне зеркало, когда я с любопытством заглянула в него. Меня поразили пышные гирлянды переплетенных темно-каштановых волос, я даже испугалась, подумав, что это парик, и убедилась в обратном, лишь несколько раз сильно дернув за локон. Тогда я поняла, какой искусник этот парикмахер, раз он умеет выставить в наилучшем свете самое заурядное создание.
Молельню освободили и заперли, и теперь дортуар стал местом, где с поразительной тщательностью совершались омовения, одевание и прихорашивание. Для меня навсегда останется загадкой, почему женщины тратят так много времени на выполнение столь незначительного дела. Процедура была сложной и длительной, а результат получался весьма скромный: белоснежное муслиновое платье, голубой кушак (цветá пресвятой девы), белые или бледно-желтые лайковые перчатки — вот та парадная униформа, для облачения в которую учительницы и пансионерки потеряли добрых три часа. Следует признать, однако, что, хотя наряд был прост, в нем все было превосходно — фасон, покрой, опрятность. Девичьи головки были причесаны тоже с тонким изяществом и в стиле, который подчеркивал пышное здоровье и миловидность уроженок Лабаскура, но был бы, пожалуй, грубоват для красоты более утонченной и нежной. Однако все вместе они представляли весьма отрадное зрелище.
Не могу забыть, как, увидев эти волны воздушной белоснежной материи, я почувствовала, что смотрюсь мрачным пятном в море света. У меня не хватило смелости надеть полупрозрачное белое платье, а поскольку на улице и в доме было слишком жарко и нужно было одеться полегче, мне пришлось обойти целый десяток магазинов, пока я набрела на нечто вроде крепа лилового цвета с сероватым оттенком, точнее, цвета серо-коричневого тумана, покрывшего цветущие вересковые заросли. Моя портниха любезно сделала из него все, что было возможно, ибо, как она справедливо заметила, раз он «si triste — si peu voyant» , необходимо обратить особое внимание на фасон. Весьма отрадно, что она отнеслась к делу таким образом, ибо у меня не было ни цветка, ни украшения, чтобы освежить платье, а главное — на щеках моих не играл румянец.
В однообразии повседневного тяжелого труда мы нередко забываем думать о недостатках своей внешности, но они резко напоминают о себе в те светлые мгновения, когда все должно быть прекрасным.
И все же в мрачноватом платье я чувствовала себя легко и свободно, я не испытывала бы подобного состояния, если бы надела более яркий и приметный наряд. Поддержала меня и мадам Бек: на ней было платье почти в таких же спокойных тонах, как и мое, но, правда, она еще надела браслет и большую золотую брошь с драгоценными камнями. Мы столкнулись с ней на лестнице, и она одобрительно кивнула и улыбнулась мне, не потому, конечно, что ей понравилось, как я выгляжу, — вряд ли ее интересовали подобные мелочи, — а потому, что, по ее мнению, я оделась прилично, благопристойно. Приличие и Благопристойность были теми бесстрастными божествами, которым мадам поклонялась. Она даже остановилась на минутку, положила мне на плечо обтянутую перчаткой руку, державшую вышитый и надушенный носовой платок, и доверительным тоном сделала несколько саркастических замечаний относительно туалетов других учительниц (которым уже успела наговорить комплиментов): «Ничто не выглядит более нелепо, чем зрелые дамы, одетые как пятнадцатилетние девочки. А что касается Сен-Пьер, то она похожа на старую кокетку в роли инженю».
Поскольку я оделась часа на два раньше остальных, мне удалось на этот раз отправиться не в сад, где слуги расставляли стулья вдоль длинных столов, накрытых к предстоящему пиру, а в классы, где теперь было пусто, тихо, прохладно и чисто. Стены там были свежевыкрашены, дощатые полы отскоблены и еще влажны после мытья, только что срезанные цветы в вазах украшали на время затихшие комнаты, а на окнах висели сияющие чистотой нарядные шторы.
Укрывшись в комнате для старшего класса, поменьше и поуютнее других, и открыв своим ключом застекленный книжный шкаф, я вынула книгу, которая, судя по названию, могла оказаться интересной, и устроилась почитать. Стеклянная дверь этой классной выходила в большую беседку. Ветки акации, тянувшиеся к розовому кусту, расцветшему у противоположного косяка, ласково касались дверного стекла, а вокруг роз деловито и радостно жужжали пчелы. Я принялась читать. Мирное жужжание, тенистый полумрак и теплый уют моего убежища уже начали обволакивать смысл читаемого, туманить мой взор и увлекать меня по тропе мечтаний в глубь царства грез — как вдруг неистовый звон дверного колокольчика, какого никогда не издавал этот немало испытавший на своем веку инструмент, вернул меня к действительности.
В то утро колокольчик звонил беспрерывно, ибо ежеминутно являлись то мастеровые, то слуги, то парикмахеры, то портнихи, то посыльные. Более того, были все основания ожидать, что он будет трезвонить весь день, потому что еще должны были прикатить в колясках или фиакрах около ста приходящих учениц. Вряд ли замолчит он и вечером, когда родители и друзья станут во множестве съезжаться на спектакль. При таких обстоятельствах без звонкого колокольчика обойтись нельзя; однако же этот рассыпался трелями как-то особенно громко, так что я очнулась и книга упала на пол.
Я было наклонилась, чтобы поднять ее, но тут кто-то прошел скорым, четким, твердым шагом через прихожую, по коридору, через вестибюль, через первое отделение, через второе, через залу — прошел уверенно, безостановочно и быстро. Закрытая дверь старшего класса — моей святая святых — не могла послужить препятствием, и вот она распахнулась, и в проеме показались сюртук и феска; затем чьи-то глаза меня нащупали, и незнакомец вперился в меня взглядом.
— C'est cela! — раздался голос. — Je la connais; c'est l'Anglaise. Tant pis. Toute Anglaise et, par consequent, toute begueule qu'elle soit — elle fera mon affaire, ou je saurai pourquoi .
Затем не без некоторой грубоватой любезности (надо полагать, пришелец думал, что я не разобрала его невежливый шепот) он продолжал на самом отвратительном наречии, какое только можно себе представить:
— Сударинь, ви играть нада — я вас уверять.
— Чем я могу быть вам полезна, мосье Поль Эманюель? — спросила я, ибо это был не кто иной, как мосье, к тому же весьма взволнованный.
— Ви играть нада. Ви не отказать, не хмурить, не жеманить. Я вас насквозь видаль, когда ви приехать. Я знать ваш способность. Ви можете играть, ви должны играть.
— Но, мосье Поль, о чем вы говорите?
— Нельзя терять ни минуты, — продолжал он по-французски. — Отбросим нашу лень, наши отговорки и жеманство. Вы должны участвовать.
— В водевиле?
— Именно в водевиле.
Я задохнулась от ужаса. Что же имел в виду этот коротышка?
— Послушайте! — сказал он. — Сперва надо объяснить положение вещей, а уж потом вы ответите — да или нет; и мое отношение к вам в дальнейшем всецело зависит от вашего ответа.
С трудом сдерживаемый порыв сильнейшего раздражения окрасил его щеки, придал остроту его взгляду. Этот вздорный, противный, противоречивый, угрюмый и легко возбудимый, а главное, неподатливый человек мог внезапно стать неистовым и неукротимым. Молчать и слушать — вот лучший бальзам, который мог его успокоить. Я промолчала.
— Это провал! — продолжал мосье Поль. — Луиза Вандеркельков заболела, по крайней мере так заявила ее нелепая мамаша. Я убежден, что она могла бы сыграть, ежели бы пожелала. Но ей это не угодно. Ей поручили роль, как вам известно. Или неизвестно — это безразлично. Без этой роли пьеса не пойдет. Осталось всего несколько часов, чтобы ее разучить, но ни одну ученицу не убедишь взяться за дело. По правде говоря, роль неинтересна и неприятна, и ученицам мешает согласиться на нее их самолюбие, низменное чувство, которое с избытком есть у каждой женщины. Англичанки — либо лучшие, либо худшие представительницы своего пола. Одному Богу известно, что я их вообще-то боюсь как чуму, — процедил он сквозь зубы. — Я молю англичанку о помощи. Что же она ответит — да или нет?
Тысяча возражений пришла мне в голову. Чужой язык, недостаток времени, выступление перед обществом. Склонности спрятались, способности дрогнули. Самолюбие («низменное чувство») затрепетало. «Non, non, non!» — восклицали они; но, взглянув на мосье Поля и увидев в сердитом, взбешенном и ищущем взгляде некий призыв, проникающий сквозь завесу гнева, я обронила лишь одно слово — «oui» . На мгновение его жесткое лицо расслабилось и выразило удовольствие, но тут же приняло прежнее выражение. Он продолжал:
— Vite a l'ouvrage! Вот книга. Вот роль. Читайте.
И я начала читать. Он меня не хвалил, зато время от времени взвизгивал и топал ногой. Он давал мне урок — я усердно его повторяла. Мне досталась непривлекательная мужская роль, роль пустоголового франта, в которую никто не смог бы вложить ни души, ни чувства. Я возненавидела эту роль. В пьесе, сущей безделице, говорилось по большей части о двух соперниках, добивавшихся руки хорошенькой кокетки. Одного воздыхателя звали Медведь, это был славный и любезный, хотя и лишенный лоска малый, нечто вроде неограненного алмаза; другой был мотыльком, болтуном и предателем. Мне-то и предстояло быть предателем, болтуном и мотыльком.
Я делала, что могла, — но все получалось плохо. Мосье Поль выходил из себя; он рассвирепел. Я пыталась все делать как следует; думаю, он оценил мои старания, и настроение его несколько смягчилось.
— Ca ira! — воскликнул он; тут в саду раздались голоса и замелькали белые платья, и он добавил: — Вам надо куда-нибудь уйти и выучить роль в уединении. Пойдемте.
Не имея ни сил, ни времени, чтобы самой принять решение, я в тот же миг понеслась в его сопровождении наверх, как бы увлекаемая вихрем, и пролетела два — нет, три — лестничных марша (ибо этот пылкий коротышка, казалось, был наделен чутьем, позволявшим всюду находить дорогу). И вот я оказалась одна в пустых запертых комнатах верхнего этажа; ключ, ранее торчавший в дверях, теперь унес исчезнувший куда-то мосье Поль.
В мансарде было очень неприятно. Надеюсь, мосье Поль об этом не подозревал, иначе он не заточил бы меня сюда столь бесцеремонно. В летние дни там было жарко, как в Африке, а зимою — зябко, как в Гренландии. Мансарду заполняли коробки и рухлядь, старые платья занавешивали некрашеные стены, паутина свисала с грязного потолка. Известно было, что в мансарде водятся крысы, черные тараканы и прусаки. Ходили слухи, что здесь однажды видели призрак монахини. Один угол мансарды прятался в полутьме, он, словно для пущей таинственности, был отгорожен старой домотканой занавеской, служившей ширмой для мрачной компании шуб, из которых каждая висела на своем крючке, как преступник на виселице. Говорили, что монахиня появилась именно из-за этой занавески, из-за горы шуб. Я этому не верила и не чувствовала страха. Зато я увидела огромную черную крысу с длинным хвостом, выскользнувшую из грязной ниши, а затем перед моими глазами предстало множество тараканов, копошившихся на полу. Это зрелище встревожило меня, пожалуй, сильнее, чем хотелось бы признаться; не меньше смущали меня пыль, захламленность и одуряющая жара, которая в самом скором времени грозила стать невыносимой, не найди я способа открыть и подпереть слуховое окошко, впустив таким образом в комнату немного свежего воздуха. Я подтащила под это окно огромный пустой ящик, поставила на него другой, поменьше, стерла пыль с обоих, тщательно подобрала подол платья (моего парадного платья, как, должно быть, помнит читатель, и, следовательно, законный предмет моей заботы), забралась на импровизированный трон и, усевшись, взялась за исполнение своей задачи; разучивая роль, я не переставала поглядывать на черных тараканов, которых смертельно боюсь, думается, даже больше, чем крыс.
Сперва у меня создалось впечатление, что я взялась за невыполнимое дело, и я просто решила стараться изо всех сил и приготовиться к провалу. Впрочем, вскоре я обнаружила, что одну роль в такой коротенькой пьесе можно выучить за несколько часов. Я зубрила и зубрила, сперва шепотом, а потом и вслух. Лишенная слушателей, я разыгрывала мою роль перед чердачными тараканами. Ощущая пустоту, фривольность и лживость этого «фата», преисполненная презрением и возмущением, я отомстила моему герою, представив его, насколько могла, придурковатым.
В этом занятии прошел день, и постепенно наступил вечер. У меня не было во рту ни крошки с завтрака, я чрезвычайно проголодалась. Тут я вспомнила о легкой закуске, которую поглощали сейчас внизу, в саду. (В вестибюле я видела корзинку с пирожными с кремом, которые предпочитала всем кушаньям.) Пирожное или кусок пирога были бы, как мне показалось, весьма кстати; и чем больше росло мое желание отведать этих лакомств, тем труднее становилось свыкнуться с мыслью, что весь праздник мне придется поститься, будто в тюрьме. Хотя мансарда и находилась далеко от парадной двери и вестибюля, до нее все же доносилось звяканье колокольчика, а равно и непрерывный стук колес по разбитой мостовой. Я понимала, что дом и сад заполнены людьми, что все — там, внизу — веселятся. Уже темнело — тараканы были еле видны; я задрожала при мысли, что они пойдут на меня стеной, незамеченными вскарабкаются на мой трон и, невидимо для меня, поползут по юбке. В тревоге и нетерпении я продолжала повторять роль, просто чтобы убить время. Когда я уже все запомнила, раздалось долгожданное щелканье ключа в замочной скважине — чрезвычайно приятный звук. Мосье Поль (я еще могла разобрать в полумгле, что это и впрямь был мосье Поль, ибо света было достаточно, чтобы разглядеть его иссиня-черные коротко остриженные волосы и лицо цвета пожелтевшей слоновой кости) заглянул в дверь.
— Bravo! — воскликнул он, открывая дверь и стоя на пороге. — J'ai tout entendu. C'est assez bien. Encore!
Мгновение я колебалась.
— Encore! — произнес он сурово. — Et point de grimaces! A bas la timidite!
Я повторила всю роль, но и вполовину не так хорошо, как до его прихода.
— По крайней мере она знает слова, — сказал он, несколько разочарованный. — В нашем положении нельзя слишком уж придираться. — Затем он добавил: — У вас еще двадцать минут на подготовку. Au revoir! — И шагнул к выходу.
— Мосье! — окликнула я его, собравшись с духом.
— Eh bien! Qu'est ce que c'est, Mademoiselle?
— J'ai bien faim .
— Comment vous avez faim? Et la collation?
— О ней я ничего не знаю. Я этой закуски и в глаза не видала, ведь вы меня заперли.
— Ah! C'est vrai! — воскликнул он.
______________
В ту же минуту я покинула и свой трон, и мансарду. Вихрь, который принес меня в мансарду, помчал меня в обратном направлении — вниз-вниз-вниз-вниз, прямо в кухню. Думаю, я спустилась бы и в погреб. Кухарке категорически приказали подать еды, а мне, так же категорически, — поесть. К великой моей радости, вся еда была — кофе и пирог. Я боялась, что придется довольствоваться сладостями и вином, которого не любила. Не знаю, как он догадался, что я с удовольствием съем пирожное с кремом, но он вышел и где-то раздобыл эту вкуснятину. Я ела и пила с большой охотой, придержав пирожное напоследок, как настоящая лакомка. Мосье Поль присутствовал на моем ужине и заставлял меня есть чуть не силком.
— A la bonne heure , — воскликнул он, когда я заявила, что больше не могу проглотить ни кусочка, и, воздев руки, молила избавить меня от булочки, которую он намазывал маслом. — А то вы еще объявите меня эдаким тираном и Синей Бородой, доводящим женщин до голодной смерти на чердаке, а я ведь на самом деле вовсе не злодей. Ну как, мадемуазель, хватит ли у вас смелости выйти на сцену?
Я ответила утвердительно, хотя, по правде говоря, изрядно смутилась и едва ли могла разобраться в собственных чувствах. Однако этот коротышка был из тех людей, которым невозможно возражать, если ты не способен сокрушить их в одно мгновение.
— Тогда пойдемте, — произнес он, предлагая мне руку.
Я взяла его под руку, и он зашагал так стремительно, что я была вынуждена бежать рядом с ним, чтобы не отстать. В carre он на мгновение остановился: здесь горели большие лампы; широкие двери классов и столь же широкие двери в сад, по обе стороны которых стояли апельсиновые деревья в кадках и высокие цветы в горшках, были открыты настежь; в саду меж цветов прогуливались или стояли дамы и мужчины в вечерних туалетах. В длинной анфиладе комнат волновалась, щебетала, раскачивалась, струилась толпа, переливая розовым, голубым и полупрозрачно-белым. Повсюду ярко сверкали люстры, а вдалеке виднелась сцена, нарядный зеленый занавес и рампа.
— Не правда ли, красиво? — спросил мой спутник.
Мне бы следовало выразить согласие, но слова застряли у меня в горле. Мосье Поль уловил мое состояние, бросил на меня искоса грозный взгляд и слегка дружески подтолкнул, чтобы я не боялась.
— Я сделаю все возможное, но как хочется, чтобы все это было уже позади! — призналась я, а потом спросила: — Неужели нам нужно пройти сквозь эту толпу?
— Ни в коем случае. Я все устрою: мы пройдем через сад, вон там.
Мы тотчас вышли из дома, и меня несколько взбудоражила прохлада тихой ночи. Луны не было, но сверкающие окна ярко освещали двор, и слабый отблеск достигал даже аллей. В безоблачном величественном небе мерцали звезды. Как ласковы ночи на континенте! Какие они тихие, душистые, спокойные! Ни тумана с моря, ни леденящей мглы — ночи, прозрачностью подобные полдню, свежестью — утру.
Пройдя через двор и сад, мы подошли к стеклянной двери старшего класса. В тот вечер были отворены все двери, мы вошли в дом, и мосье Поль провел меня в комнатушку, отделявшую старший класс от парадной залы. В этой комнатке я едва не ослепла от яркого света, чуть не оглохла от шума голосов, почти задохнулась от жары, духоты и толчеи.
— Спокойно! Тихо! — крикнул мосье Поль. — Это что за столпотворение? — вопросил он, и сразу наступила тишина. С помощью десятка слов и такого же количества жестов он выдворил из комнаты половину присутствующих, а остальных заставил выстроиться в ряд. Они уже были одеты к спектаклю, значит, я оказалась среди исполнителей в комнате, служившей артистическим фойе. Мосье Поль представил меня. Все воззрились на меня, а некоторые захихикали. Для них было большой неожиданностью то, что англичанка, да вдруг будет выступать в водевиле. Джиневра Фэншо, очаровательная в своем прелестном костюме, глядела на меня удивленно, округлив глаза. Мое появление, по-видимому, несказанно ошеломило ее в тот момент, когда она находилась наверху блаженства и, не испытывая ни страха, ни робости перед предстоящим выступлением, пребывала в полном восторге от мысли, что будет блистать перед сотнями зрителей. Она готова была что-то воскликнуть, но мосье Поль держал всех, и ее в том числе, в крепкой узде.
Окинув взглядом всю труппу и сделав несколько критических замечаний, он обратился ко мне:
— Вам тоже пора одеваться.
— Да, да, одеваться в мужской костюм! — воскликнула Зели Сен-Пьер, подскочив к нам, и услужливо добавила: — Я одену ее сама.
Надевать мужской костюм мне было неприятно и неловко. Я дала согласие носить в спектакле мужское имя и исполнять мужскую роль, но надевать мужской костюм — увольте! Нет уж! Чего бы мне это ни стоило, я буду играть в своем платье. Это я заявила решительным тоном, но тихо и, может быть, не очень разборчиво.
Вопреки моим ожиданиям, мосье Поль не только не разбушевался, но даже не произнес ни единого слова. Зато вновь вмешалась Зели:
— Из нее получится отменный petit-maitre. Вот полный костюм; правда, он немного великоват, но я подгоню по ней. Идемте, chere amie — belle Anglaise.
И она насмешливо улыбнулась, ибо «belle» я отнюдь не была. Она схватила меня за руку и потащила за собой. Мосье Поль продолжал стоять с безучастным видом.
— Не сопротивляйтесь, — настаивала Сен-Пьер, пытаясь сломить мое решительное сопротивление. — Вы все испортите — веселость пьесы, радостное настроение гостей. Вы готовы все и вся принести в жертву своему самолюбию, гордости. Это очень нехорошо; мосье, вы ведь этого ни за что не допустите?
Она вопросительно посмотрела на него, ища его взгляд; я тоже пыталась встретиться с ним глазами. Он взглянул на нее, потом на меня.
— Стойте! — медленно произнес он, обращаясь к Сен-Пьер, которая не переставала тянуть меня за собой.
Все ждали, какое решение он примет. Он не выказывал ни гнева, ни раздражения, и это придало мне смелости.
— Вам не нравится этот костюм? — спросил он, указывая на мужскую одежду.
— Кое-что я согласна надеть, но не все.
— А как же быть? Как можно исполнять на сцене роль мужчины в женском платье? Разумеется, это всего лишь любительский спектакль, водевиль на сцене пансиона, и я могу допустить некоторые переделки, но должно же быть что-то, указывающее на вашу принадлежность, по роли, к сильному полу.
— Верно, сударь, но надо все устроить, как мне хочется, пусть никто не вмешивается, не надо принуждать меня делать так, а не иначе; разрешите мне одеться самой.
Ничего не сказав, мосье Поль взял костюм у Сен-Пьер, отдал его мне и разрешил пройти в уборную. Оставшись одна, я успокоилась и сосредоточенно принялась за работу. Ничего не изменив в своем платье, я лишь добавила к нему небольшой жилет, мужской воротник и галстук, а сверху сюртучок. Весь этот костюм принадлежал брату одной из учениц. Распустив волосы, я высоко подобрала падавшие на спину длинные пряди, а спереди зачесала волосы набок, взяла в руку шляпу и перчатки и вернулась в фойе. Там все меня ждали. Мосье Поль взглянул на меня и сказал:
— В пансионе и так сойдет, — а потом прибавил довольно благодушно: — Смелей, дружок! Немного хладнокровия, немного самоуверенности, мосье Люсьен, и все будет хорошо!
На лице Сен-Пьер вновь появилась присущая ей холодная и ядовитая улыбка.
Волнение вызвало у меня раздражение, и я, не сдержавшись, повернулась к ней и сказала, что, не будь она дамой, я, по роли джентльмен, не преминула бы вызвать ее на дуэль.
— Только после спектакля! — воскликнул мосье Поль. — Я разделю тогда мою пару пистолетов между вами, и мы разрешим ваш спор согласно принятым правилам — это будет продолжением давнишней ссоры между Францией и Англией.
Но уже приближалось время начать представление. Мосье Поль, построив нас в ряд, обратился к нам с краткой речью, подобно генералу, напутствующему солдат перед атакой. Из всего им сказанного я уловила лишь, что он советует нам всем проникнуться ощущением своей ничтожности. «Ей-богу, — подумала я, — некоторым напоминать об этом вовсе не нужно». Зазвонил колокольчик. Меня и еще двоих участников представления вывели на сцену. Опять колокольчик. Произнести первые слова пьесы предстояло мне.
— Не смотрите в зал, не думайте о зрителях, — прошептал мосье Поль мне на ухо. — Вообразите, что вы на чердаке и выступаете перед крысами. — И он исчез.
Занавес взвился и собрался в складки где-то под потолком. Перед нами разверзся длинный зал, нас ослепили яркие огни, оглушила веселая толпа. Я старалась думать о черных тараканах, старых сундуках и источенном жучками бюро. Слова свои я проговорила скверно, но все же произнесла их. Трудным оказалось именно начать — я сразу же поняла, что боюсь не столько зрителей, сколько собственного голоса. Присутствие целой толпы посторонних людей, да к тому еще иностранцев, нисколько меня не трогало. Когда я ощутила, что язык мой перестал быть деревянным, а голос обрел присущие ему высоту и силу, я сосредоточила все свое внимание только на исполняемой роли и на мосье Поле, который, стоя за кулисами, слушал нас, следил за всем происходящим и при необходимости суфлировал.
Между тем, чувствуя прилив свежих сил — для чего просто требовалось время, — я достаточно овладела собой, чтобы обратить внимание на моих партнеров. Некоторые из них играли очень хорошо, особенно Джиневра Фэншо; по роли ей полагалось кокетничать с двумя поклонниками, и это ей великолепно удавалось, ибо она оказалась в своей стихии. Один-два раза, как я приметила, она обошлась со мной — фатом — подчеркнуто любезно и внимательно. Она оказывала мне предпочтение столь неприкрыто и пылко и бросала такие многозначительные взгляды в аплодирующий зал, что мне, знавшей ее достаточно хорошо, стало совершенно ясно: она играет для кого-то из зрителей. Тогда я начала следить, куда она посылает взгляды и улыбку и к кому простирает руки, и почти сразу обнаружила, что для своих стрел она выбрала весьма крупную и заметную цель, — на пути их полета, возвышаясь над всеми зрителями и потому являясь уязвимой, оказалась знакомая всем фигура доктора Джона. Выглядел он спокойным, но и сосредоточенно-напряженным.
Его облик наводил на размышления. Взгляд его был красноречив, и, хотя я не могла понять, что именно таилось в нем, он вдохновил меня. Я извлекла из него некую идею, которую использовала при исполнении моей роли, — в частности, стала по-другому изображать ухаживание за Джиневрой. «Медведя», который истинно любил героиню, я теперь представляла двойником доктора Джона. Сострадала ли я ему, как раньше? Нет, я ожесточилась, вступила с ним в соперничество и одолела его. Я понимала, что герой мой всего лишь фат, но зачастую «Медведя» зритель не принимал, а меня встречал благожелательно. Теперь-то я сознаю, что играла свою роль, исполненная решимости и стремления одержать победу. Джиневра подыгрывала мне, и мы общими стараниями существенно изменили весь характер пьесы, насытив ее новыми красками. В антракте мосье Поль заявил, что с нами произошло нечто ему непонятное, и пытался умерить наш пыл. «C'est peut-etre plus beau que votre modele, — сказал он, — mais ce n'est pas juste» . Я тоже не знала, что со мной произошло, но, так или иначе, я испытывала непреодолимое желание затмить «Медведя», то есть доктора Джона. Раз Джиневра проявляла ко мне благосклонность, как могла я вести себя не по-рыцарски? Храня в памяти известное письмо, я под его влиянием дерзко нарушила весь дух пьесы. Я не могла бы исполнять свою роль, не ощущая вдохновения и увлеченности ею. Такая роль требовала пряной приправы и лишь сдобренная ею доставляла мне удовольствие.
До этого вечера подобные чувства и поступки представлялись мне столь же немыслимыми для моей натуры, сколь состояние исступленного восторга, возносящее некоторых на седьмое небо. Обычно я, оставаясь холодной и осторожной, пусть с неохотой, но делала то, что было угодно другим, а тут, вдруг ощутив сердечный жар, набравшись смелости, с радостной готовностью творила то, что было приятно мне самой. Однако на следующий день, хорошенько над всем этим поразмыслив, я почувствовала отвращение ко всяким любительским представлениям и, хотя была довольна тем, что оказала услугу мосье Полю и заодно испытала собственные силы, приняла твердое решение больше в таких авантюрах не участвовать. Оказалось, что по натуре мне явно присуща склонность к лицедейству, и дальнейшее развитие и воспитание этой внезапно обнаружившейся способности могли бы одарить меня радостью и наслаждением, но подобные занятия не пристали человеку, глядящему на жизнь как бы со стороны: он должен отринуть желания и стремления, и я отринула их, упрятала столь глубоко, связав крепким узлом, что с тех пор ни Время, ни Искушения не смогли выпустить их на волю.
Не успел спектакль подойти к концу, причем с большим успехом, как вспыльчивый и деспотичный мосье Поль совершенно преобразился. Теперь он уже не исполнял обязанности импресарио и незамедлительно сбросил с себя высокомерную суровость. И вот он стоит среди нас — оживленный, добродушный и галантный, пожимает всем нам руки, благодарит каждого в отдельности и объявляет, что хотел бы на предстоящем балу танцевать со всеми нами по очереди. Когда он спросил моего согласия, я ответила, что не танцую. «Но один раз, в виде исключения! Вы должны уступить», — настаивал он, и если бы я своевременно не ускользнула от него, он вынудил бы меня принять участие в этом — еще одном — спектакле. Но я и так играла достаточно в этот вечер — пришла пора стать самой собой и вернуться к привычному образу жизни. На сцене мое серовато-коричневое платье выглядело, в сочетании с сюртучком, неплохо, но никак не подходило для вальса или кадрили. Я укрылась в закоулке, где меня было трудно заметить, но откуда я видела все, — передо мной во всем великолепии стало разворачиваться великолепное зрелище.
Вновь Джиневра Фэншо была самой прелестной и веселой из всех присутствующих. Ей выпала честь открыть бал. Выглядела она чудесно, танцевала грациозно, улыбалась лучезарно. Подобные развлечения всегда значили для нее блестящий триумф, ибо удовольствия были ее стихией. Когда нужно было работать или преодолевать трудности, она становилась нерадивой и унылой, беспомощной и раздраженной, но в часы веселья она, бывало, как бабочка, расправит крылышки, на которых сияла золотистая пыльца, сверкнет, как бриллиант, и заблагоухает, как свежий цветок. При виде будничной еды и простых напитков она надувала губки, но от сливок и мороженого ее нельзя было оторвать, как пчелу от меда; вместо воды она предпочитала сладкое вино, а вместо хлеба насущного — пирожные. Полной жизнью Джиневра жила лишь на балу, в обыденной жизни она никла и увядала.
Не подумайте, читатель, что в тот вечер она так старалась превзойти самое себя только ради своего партнера по танцу, мосье Поля, или же демонстрировала немыслимое изящество манер в назидание подругам или чтобы понравиться их родителям, дедушкам и бабушкам, толпившимся в вестибюле и сидевшим вдоль стен зала. В таком скучном и бесцветном окружении, да еще ради столь никчемных и банальных целей Джиневра вряд ли соблаговолила бы даже один раз пройтись в кадрили, а радостное расположение духа сменилось бы у нее раздражением и брюзгливостью. Но ей было известно, что в этом пресном праздничном блюде таится пряная приправа, которая придает ему остроту, она ощущала ее вкус и смекнула, что это подходящий момент показать самые тонкие грани своего обаяния.
В зале и в самом деле не было ни одного холостого и бездетного зрителя, кроме мосье Поля, единственного представителя мужского пола, которому разрешалось танцевать с ученицами. Ему было дано это исключительное право, во-первых, по традиции (ибо он был родственником мадам Бек и пользовался ее особым доверием), во-вторых, потому что он все равно поступал как ему заблагорассудится, и, в-третьих, потому что, каким бы своевольным, вспыльчивым, пристрастным он ни бывал, у него в груди билось благородное сердце и ему можно было доверить целую армию прекрасных и непорочных девиц, оставаясь в полной уверенности, что благодаря ему они в беду не попадут. В скобках следует заметить, что многие пансионерки вовсе не отличались безгрешностью помыслов, но ни за что не посмели бы обнаружить свойственную им примитивность в присутствии мосье Поля, как не решились бы намеренно обидеть его, рассмеяться ему в лицо во время обращенных к ним его взволнованных речей или переговариваться друг с другом, когда в приступе гнева он надевал маску умного тигра. Вот почему мосье Поль имел право танцевать с кем пожелает, и всякое вмешательство в такое положение вещей ничего не изменило бы.
Всем прочим гостям отводилась роль зрителей, но даже наблюдать за этим действом они могли благодаря неизъяснимой доброте мадам Бек, после длительных просьб, ходатайств и уговоров, на весьма строгих условиях. Весь вечер мадам не уставала следить за тем, чтобы небольшая отчаявшаяся группа «jeunes gens» , принадлежавших к высшим слоям общества, матери которых присутствовали здесь же, а сестры были ученицами нашего пансиона, не покинула отведенного им самого отдаленного, мрачного, холодного и темного угла в carre. Мадам беспрерывно дежурила около «jeunes gens» — заботливая, как мать, но бдительная, как цербер. Они одолевали ее мольбами разрешить им перешагнуть через воображаемый барьер и насладиться всего лишь одним танцем с этой «belle blonde» , или вон той «jolie brune», или «cette jeune fille magnifique aux cheveux noirs comme le jais».
— Taisez-vous! — отвечала мадам решительно и неумолимо. — Vous ne passerez pas a moins que ce ne soit sur mon cadavre, et vous ne danserez qu'avec la nonnette de jardin. — И она с величественным видом прохаживалась перед строем безутешных и полных нетерпения юношей, словно маленький Бонапарт, нарядившийся в шелковое платье мышиного цвета.
Мадам хорошо знала жизнь, как и человеческую натуру. Думаю, ни одна другая начальница пансиона в Виллете не осмелилась бы допустить в стены своего заведения «jeune homme», но мадам понимала, что подобное позволение можно использовать, чтобы добиться укрепления своих позиций, что, несомненно, было ловким ходом.
Во-первых, родители пансионерок оказывались соучастниками в этом деянии, ибо совершалось оно по их ходатайству. Во-вторых, то, что мадам впускала в дом опасных и обладающих магнетической силой гремучих змей, особенно подчеркивало непревзойденный талант, присущий мадам, — талант первоклассной надзирательницы.
В третьих, присутствие юных представителей мужского пола придавало пикантности всему празднеству. Ученицы понимали это, а зрелище сверкающих вдалеке золотых яблок делало их такими оживленными, как никакие другие обстоятельства. Радость детей передавалась родителям, веселье и ликование охватывали всех присутствующих, развлекались даже укрощенные «jeunes gens», ибо мадам не давала им скучать. Вот таким образом каждый год празднование именин мадам Бек имело такой успех, какого не удавалось добиться ни одной директрисе во всей стране.
Я заметила, что сначала доктору Джону разрешалось свободно расхаживать по всем комнатам. Мужественный и степенный вид умерял в нем юношескую живость и даже несколько приглушал красоту. Однако, как только начался бал, к нему подбежала мадам.
— Пойдемте, Волк, пойдемте, — воскликнула она, смеясь. — Хоть вы и в овечьей шкуре, вам все же придется покинуть овчарню. Пойдемте, у меня там, в вестибюле, собрался небольшой зверинец, хочу и вас поместить в мою коллекцию.
— Но разрешите мне сперва один раз протанцевать с ученицей, которую я выберу.
— Как вам не стыдно просить об этом? Какое безрассудство! Какая дерзость! Идите, идите, да побыстрее!
Подталкивая его в спину, она вскоре выдворила его за барьер.
Джиневра, уставшая, как я полагаю, от танцев, разыскала меня в моем убежище. Она бросилась рядом со мной на скамейку и (без чего я могла бы легко обойтись) обняла меня за шею.
— Люси Сноу! Люси Сноу! — со всхлипами, почти в истерике воскликнула она.
— Ну, что же случилось? — спросила я сухо.
— Как я выгляжу? Как я сегодня выгляжу? — настойчиво повторяла она.
— По обыкновению до нелепости самодовольно.
— Злюка! Вы никогда не скажете доброго слова обо мне, но, что бы ни говорили вы и все прочие завистливые клеветники, я знаю, что очень хороша. Я ощущаю свою красоту, вижу ее и вижу, когда смотрю на себя в полный рост в большом зеркале в артистической уборной. Пойдемте-ка со мной и посмотрим в него, хотите?
— Хочу, мисс Фэншо. Вот уж когда вы вволю натешитесь!
Мы вошли в расположенную рядом комнату для одевания. Взяв меня под руку, она подвела меня к зеркалу. Я стояла перед ним молча, не оказывая никакого сопротивления и предоставив ей, самолюбивой кокетке, возможность испытывать торжество и ликование. Мне было занятно, может ли удовлетвориться ее тщеславие, проникнет ли хоть капля участия к другим людям в ее сердце, чтобы умерить суетное и высокомерное упоение самой собой.
Нет, этого не произошло. Она вертелась перед зеркалом и заставляла меня делать то же самое, осматривала нас обеих со всех сторон, улыбалась, подкручивала локоны, поправляла кушак, разглаживала юбку и наконец, выпустив мою руку и присев с притворной почтительностью в реверансе, произнесла:
— Ни за какие блага в мире не хотела бы превратиться в вас.
Замечание это было слишком наивным, чтобы вызвать гнев, и я ограничилась тем, что сказала:
— Ну и прекрасно.
— А сколько бы вы заплатили, чтобы стать мною? — спросила она.
— Ни пенса не дала бы, как ни странно для вас это звучит, — ответила я. — Вы несчастное создание.
— В душе вы думаете иначе.
— Нет, ибо у меня в душе для вас нет места, лишь иногда мелькает мысль о вас.
— Но все-таки, — сказала она с укоризной, — выслушайте, чем отличается мой образ жизни от вашего, и вы поймете, что я счастлива, а вы несчастны.
— Говорите, слушаю вас.
— Начнем с того, что мой отец благородного происхождения и, хотя он небогат, я могу возлагать надежды на дядю. Затем, мне всего восемнадцать лет — самый восхитительный возраст. Я воспитывалась на континенте, и, пусть у меня нелады с орфографией, я обладаю множеством достоинств. Вы не можете отрицать, что я красива, поэтому у меня может быть столько поклонников, сколько я пожелаю. За один сегодняшний вечер я разбила сердца двух молодых людей, и скорбный взгляд, который только что бросил на меня один из них, как раз и вызвал у меня столь радостное настроение. Мне ужасно нравится видеть, как они краснеют и бледнеют, хмурятся, устремляют друг на друга свирепые взгляды и печально-нежные — на меня. Такова я, счастливица! А теперь займемся вами, бедняжка. Полагаю, вы отнюдь не знатного происхождения, поскольку вам пришлось ухаживать за маленькими детьми, когда вы приехали в Виллет; у вас нет родных; вам двадцать три, а это уже не молодость; вы не обладаете ни привлекательностью, ни красотой. Ну а поклонники... едва ли вы представляете себе, что это такое. Вы и разговаривать на эту тему не хотите — сидите, как немая, когда другие учительницы рассказывают о своих победах. Думаю, вы никогда не влюблялись, да и в будущем вам это не грозит. Вы просто не ведаете, какое это чувство. Возможно, так лучше для вас, потому что, если бы вы сами умирали от любви, на нее не откликнулось бы ничье сердце. Разве я сказала неправду?
— Почти все — истинная правда, да еще доказывающая вашу проницательность. Вы, видимо, порядочный человек, Джиневра, раз можете говорить так честно; даже эта змея Зели Сен-Пьер не осмелилась бы произнести подобное. И все же, мисс Фэншо, хоть я, по-вашему, жалкая неудачница, я не дала бы за вас и пенса.
— Лишь потому, что я не умна, а вы только это принимаете в расчет. А ведь никого на всем свете, кроме вас, не заботит, умен ли человек.
— Напротив, я считаю вас по-своему очень умной, вы сообразительны и находчивы. Но вы вели речь о том, как разбивать сердца, как преуспеть в этом деле, достоинства коего мне не совсем ясны. Прошу вас, скажите, кого же удалось вам, как вы самоуверенно полагаете, подвергнуть казни сегодня?
Она наклонилась к моему уху и прошептала:
— Оба — и Исидор, и де Амаль — сейчас здесь!
— О! Неужели? Хотелось бы взглянуть на них.
— Ну вот, милочка, наконец-то вас разобрало любопытство. Идите за мной, я покажу их вам.
Она гордо зашагала впереди меня, потом обернулась и сказала:
— Отсюда, из классов, нам будет плохо видно — мадам упрятала их слишком далеко. Давайте пройдем через сад, а потом по коридору подойдем к ним поближе. Не страшно, если нас заметят, пожурят.
На этот раз я согласилась с ней. Мы прошли по саду, проникли через редко используемую боковую дверь в коридор и, подойдя к вестибюлю, но оставаясь в тени, получили возможность хорошо рассмотреть всю компанию «jeunes gens».
Думаю, я могла бы без посторонней помощи сразу распознать, кто из них неотразимый де Амаль. Это был маленький денди с прямым носом и правильным овалом лица. Я говорю «маленький», хотя роста он был не ниже среднего, но уж очень мелкими были у него черты лица, миниатюрными руки и ноги, он был хорошенький, приглаженный и нарядный, как кукла. Этот мужчина был так элегантно одет и причесан, такие отличные были на нем туфли, перчатки и галстук, что он на самом деле выглядел очаровательно. Я высказала это мнение вслух — не удержавшись, воскликнула: «Какой милый!» Я похвалила вкус Джиневры и спросила у нее, что, по ее мнению, сделал де Амаль с драгоценными кусочками своего разбитого сердца — может быть, поместил их во флакон духов или хранит в розовом масле? С восхищением я отметила также, что руки у полковника не крупнее, чем у мисс Фэншо, а это весьма удобно, поскольку в случае крайней необходимости он может надеть ее перчатки. Я сообщила ей, что без ума от его прелестных кудрей, и призналась, что мне не хватает слов, чтобы выразить восторг по поводу таких его достоинств, как низкий греческий лоб и изящная, классическая форма головы.
— Ну а если бы он был влюблен в вас? — с жестоким ликованием в голосе попыталась ввести меня в искушение Джиневра.
— О Боже! Какое это было бы блаженство! — произнесла я. — Но не будьте столь бесчеловечны, мисс Фэншо, — внушать мне такие мысли — это то же самое, что дать возможность несчастному отверженному Каину заглянуть в райские кущи. Значит, он вам нравится?
— Так же, как конфеты, варенье, мармелад и оранжерейные цветы.
Джиневра одобрила мой вкус — она обожала все перечисленное и не сомневалась, что и я их люблю.
— А где же Исидор? — продолжала я.
Признаться, мне было интереснее посмотреть на него, чем на его соперника, но Джиневра была так поглощена мыслями о последнем, что не расслышала меня.
— Альфреда приняли здесь сегодня, — тараторила она, — благодаря авторитету его тетки — баронессы де Дорлодо. Теперь, увидев его вблизи, вы, надеюсь, понимаете, почему я весь вечер в таком приподнятом настроении, так удачно играла, оживленно танцевала, да и вообще счастлива, как королева? Господи! Как забавно было бросать взгляды то на одного, то на другого и сводить их обоих с ума.
— Но где же этот другой? Покажите мне Исидора.
— Не хочу.
— Но почему?
— Мне стыдно за него.
— По какой причине?
— Потому что, потому что (шепотом) у него такие... такие бакенбарды... оранжевые, рыжие... ну вот!
— Итак, тайна раскрыта, — подвела я итог. — Все равно покажите его мне, обещаю не падать в обморок.
Она оглянулась вокруг. В этот момент у нас за спиной послышалась английская речь:
— Вы обе стоите на сквозняке, уйдите из коридора.
— Здесь нет сквозняка, доктор Джон, — заметила я, повернувшись.
— Она так легко простужается, — продолжал он, устремив на Джиневру взгляд, полный беспредельной ласки. — Она очень хрупкая, ее нужно опекать — принесите ей шаль.
— Позвольте мне самой решать за себя, — высокомерным тоном заявила мисс Фэншо. — Мне не нужна шаль.
— На вас тонкое платье, и вы не остыли еще после танцев.
— Вечные проповеди! — резко бросила она. — Вечные предостережения и увещевания!
Доктор Джон воздержался от ответа, но взгляд его выражал душевную боль. Он смотрел в сторону, его лицо потемнело, настолько он был опечален, но он продолжал молчать. Я знала, где хранятся шали, побежала туда и принесла одну из них.
— Пока у меня хватит сил настаивать на своем, она не снимет шали, — заявила я, набросив шаль на ее муслиновое платье и плотно закутав ей шею и обнаженные руки. — Это Исидор? — спросила я весьма свирепым шепотом.
Приподняв верхнюю губку, она улыбнулась и утвердительно кивнула головой.
— Это и есть Исидор? — повторила я, встряхнув ее и испытывая желание сделать это еще раз десять.
— Он самый, — ответила она. — Как он груб по сравнению с полковником! И потом, о небо!.. Эти бакенбарды!
В это время доктор Джон уже отошел от нас.
— Полковник! Граф! — передразнила я. — Кукла... марионетка... карлик... ничтожное создание! Лишь камердинером ему быть у доктора Джона или мальчиком на посылках! Возможно ли, чтобы этот благородный, великодушный джентльмен, прекрасный, как волшебное видение, предлагал вам свою честную руку и доблестное сердце, обещал защищать вашу непостоянную особу, обладающую ленивым умом, от житейских бурь и бед, а вы от этого отказались, глумились над ним, терзали и мучили его? Какое право вы имеете поступать так? Кто дал вам его? Неужели вы считаете, что вам дает его ваша красота, нежный цвет лица и золотистые волосы? Неужели из-за этого он положил сердце к вашим ногам и дал вам возможность надеть ярмо ему на шею? Неужели за эту цену отдает он вам свою привязанность, нежность, лучшие помыслы, надежды, внимание, свою благородную, искреннюю любовь? И вы всего этого не примете? Вы презираете его? Нет, вы притворяетесь, вы неискренни — вы любите его, вы от него без ума, но насмехаетесь над его чувством, чтобы еще крепче привязать его к себе, не правда ли?
— Вот еще! Как много вы говорите! Я не поняла и половины из того, что вы сказали.
К этому моменту я успела увести ее в сад. Теперь я заставила ее сесть и заявила, что не дам ей двинуться с места, пока она не признается, кого же она, в конце концов, предпочитает — человека или обезьяну.
— Это его-то вы называете человеком?! — промолвила она. — Этого рыжеволосого буржуа, откликающегося на имя Джон?! — Хватит с меня, надоело. Полковник де Амаль — господин знатный и благородный, у него отличные манеры и потрясающая внешность — бледное интересное лицо, а волосы и глаза настоящего испанца. Кроме того, он великолепнейший собеседник, вполне в моем вкусе — в нем нет чрезмерной чувствительности и зажатости, свойственных тому, другому; с ним я могу говорить как равная — он не докучает мне, не утомляет меня всякими высокопарными рассуждениями и глубокими страстями, а также своими познаниями, которые меня нисколько не интересуют! Вот и все! Не держите меня так крепко!
Я несколько разжала пальцы руки, которой держала ее, и она ринулась от меня прочь. Я и не подумала преследовать ее.
Что-то заставило меня направиться к двери, ведущей в коридор, где я рассчитывала встретить доктора Джона, но увидела его уже на ступеньках, спускающихся в сад. Там он стоял в потоке падавшего из окна света. Его стройную фигуру нельзя было спутать ни с чьей другой, ибо едва ли среди собравшихся здесь был еще один столь хорошо сложенный мужчина. Он держал шляпу в руке, и его непокрытые волосы, лицо и особенно высокий лоб выглядели поразительно красивыми и мужественными. Черты его лица не были ни тонкими, ни нежными, как у женщины, но они не отражали холодности, высокомерия или душевной слабости. Очень выразительные, они не отличались теми изяществом и симметрией, которые лишают лицо значительности. На его лице временами отражалось много чувств, но еще больше таилось в глазах. Во всяком случае, такое впечатление производил он на меня. Пока я смотрела на доктора, меня охватил невыразимый восторг, я ощутила, что нельзя не уважать этого человека.